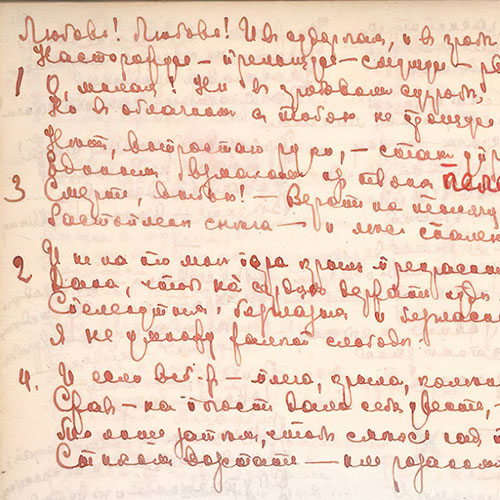
O love! O love! In the convulsions, in the coffin,
I'll be on guard — entice — worry — and tear.
Not in the snow mound of the coffin, nor a snow mound
Of cloud, I will part with you, O my dear.
And not for this are given to me gorgeous
Two wings that weight upon my heart would lie.
Pathetic village of the eyeless, voiceless,
And swaddled I will never multiply.
No, I wheedle the arms! Your sturdy body
From out your cloth I'll beat out with one blow,
Death! For a thousand kilometers all around
The wood is burned and melted is the snow.
And if I'd let you drive me to the churchyard —
Pressing the shoulders, and the wings and knees —
It is so that, laughing over the ashes,
I'll rise like poem — or bloom like a rose!
Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе
Насторожусь — прельщусь — смущусь — рванусь.
О милая! Ни в гробовом сугробе,
Ни в облачном с тобою не прощусь.
И не на то мне пара крыл прекрасных
Дана, чтоб на сердце держать пуды.
Спеленутых, безглазых и безгласных
Я не умножу жалкой слободы.
Нет, выпростаю руки, стан упругий
Единым взмахом из твоих пелен,
Смерть, выбью!— Верст на тысячу в округе
Растоплены снега — и лес спален.
И если все ж — плеча, крыла, колена
Сжав — на погост дала себя увесть, —
То лишь затем, чтобы, смеясь над тленом,
Стихом восстать — иль розаном расцвесть!