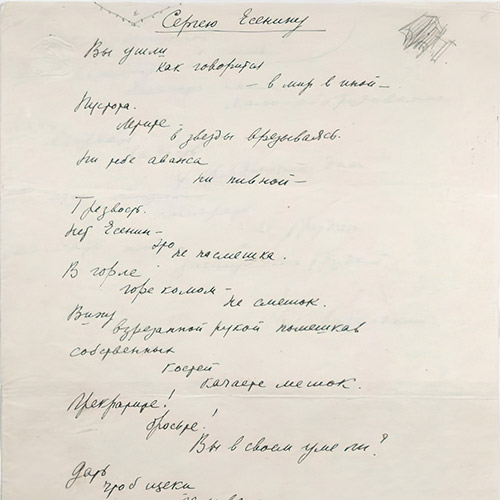
You’ve departed,
as they say,
to another world.
Emptiness. . . .
Fly on,
with stars colliding.
No money to collect.
No beershops.
In a word —
Sobriety.
No, Esenin,
this is not a sneer.
No chortles in my throat,
but a lump of woe.
A sagging bone-bag
in my vision
you appear,
red runnels
from your slashed-up wrist-veins flow.
Stop,
leave off!
Are you in your right mind?
To let your cheeks be smeared
with deathly lime?
You,
who’d pull off pranks
of such a kind
that no one
could have matched at any time!
Why?
What for?
There’s really no accounting.
Critics mumble,
it was all because
this and that —
but chiefly poor class-contact
which resulted
in too much strong drink,
of course.
“Had lie given up
bohemians
for the class
it’d influence him,
he’d have less time for fights. . . .”
But that class —
you think it slakes its thirst
with kvass?
Yeah —
the class —
it doesn’t
mind a booze
on pay-day nights
If, they say,
he had been supervised
by someone “at the post”
he’d have got
a lot more gifted
as to content.
He’d have written verse
as fast as prose
(long-drawn-out and dreary as Doronin). . . .
But if some such thing had happened,
I should think
you’d have done it —
slit your wrist-veins —
long before.
I’d rather,
if you ask me,
die of drink
than be bored to death
or live a bore.
Whether it was boredom
or despair
neither you
nor penknife
can explain.
Maybe,
had there been some ink
in the Angleterre
there’d have been no cause
to slit a vein.
Imitators jumped at it —
encore!
Dozens hurried
to repeat the bloody deed.
But, listen,
why increase
the suicidal score?
Better make more ink
to meet the need!
His tongue’s now locked
between his teeth
forever.
To bandy words
is just a shame
and waste of breath.
The people,
that supremest language-weaver,
has lost a lusty
young apprentice
with his death.
So now
they bring along
funereal scrap,
verses
scarce rebotched
since the last decease,
and line the grave
with lines
obtuse and drab.
Is that the homage
that a poet should receive?
Although the monument
that you deserve
has not been cast —
where is it,
ringing bronze
and hard-grained granite? —
The drain of memory’s
already thick with dust;
remembrances
and dedications
set upon it.
Your name
is being snivelled
into hankies.
With your words
maestro Sobinov
hanky-pankies
and trills
beneath a stillborn birch,
as if he’d die,
“Oh not a wo-o-ord,
my friend,
ah, not a si-i-igh!”
Bah!
I’d like to talk
a bit more briskly
with that selfsame
Leonid V. Loengrinsky!
I’d stand up in their way,
a thundering brute:
How dare you mumble verse
like cows chew cud?”
I’d deafen them —
I’d whistle and I’d hoot:
“Your blank-blank mother,
grandmother,
your blinking soul and God!”
So all the giftless scum
skedaddle off to hell,
flapping
their inflated
jacket-skirts,
so P. S. Kogan
should go scattering
pell-mell,
piercing
all he meets
with whisker-darts.
Riff-raff
hasn’t scarcened much
as yet.
There’s lots to do,
so hurry, mates,
along.
Life must first
be thoroughly reset,
rebuilt —
remade —
and only then extolled in song.
These days —
they are a little hard
upon the pen.
But tell me,
cripples,
cripplesses,
if it please you,
whoever of the great ones,
where and when
chose paths
that were both better-trod
and easier?
Words
command and muster
human strength.
March!
Let time explode like gunshells,
far behind,
so that back to the old days
the wind should fling
only hairscraps,
twisted up and twined!
It isn’t much equipped for merriment,
our world.
Let’s wrest joy
from the grips
of a future day!
Dying
in this life
is not so hard.
Building life
is harder,
I daresay.
–í—č —É—ą–Ľ–ł,
–ļ–į–ļ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ā—Ź,
–≤ –ľ–ł—Ä –ł–Ĺ–ĺ–Ļ.
–ü—É—Ā—ā–ĺ—ā–į…
–õ–Ķ—ā–ł—ā–Ķ,
–≤ –∑–≤–Ķ–∑–ī—č –≤—Ä–Ķ–∑—č–≤–į—Ź—Ā—Ć.
–Ě–ł —ā–Ķ–Ī–Ķ –į–≤–į–Ĺ—Ā–į,
–Ĺ–ł –Ņ–ł–≤–Ĺ–ĺ–Ļ.
–Ę—Ä–Ķ–∑–≤–ĺ—Ā—ā—Ć.
–Ě–Ķ—ā, –ē—Ā–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ,
—ć—ā–ĺ
–Ĺ–Ķ –Ĺ–į—Ā–ľ–Ķ—ą–ļ–į.
–í –≥–ĺ—Ä–Ľ–Ķ
–≥–ĺ—Ä–Ķ –ļ–ĺ–ľ–ĺ–ľ —
–Ĺ–Ķ —Ā–ľ–Ķ—ą–ĺ–ļ.
–í–ł–∂—É —
–≤–∑—Ä–Ķ–∑–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ —Ä—É–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—ą–ļ–į–≤,
—Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö
–ļ–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ļ
–ļ–į—á–į–Ķ—ā–Ķ –ľ–Ķ—ą–ĺ–ļ.
— –ü—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—ā–ł—ā–Ķ!
–Ď—Ä–ĺ—Ā—Ć—ā–Ķ!
–í—č –≤ —Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ —É–ľ–Ķ –Ľ–ł?
–Ē–į—ā—Ć,
—á—ā–ĺ–Ī —Č–Ķ–ļ–ł
–∑–į–Ľ–ł–≤–į–Ľ
—Ā–ľ–Ķ—Ä—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –ľ–Ķ–Ľ?!
–í—č –∂
—ā–į–ļ–ĺ–Ķ
–∑–į–≥–ł–Ī–į—ā—Ć —É–ľ–Ķ–Ľ–ł,
—á—ā–ĺ –ī—Ä—É–≥–ĺ–Ļ
–Ĺ–į —Ā–≤–Ķ—ā–Ķ
–Ĺ–Ķ —É–ľ–Ķ–Ľ.
–ü–ĺ—á–Ķ–ľ—É?
–ó–į—á–Ķ–ľ?
–Ě–Ķ–ī–ĺ—É–ľ–Ķ–Ĺ—Ć–Ķ —Ā–ľ—Ź–Ľ–ĺ.
–ö—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł –Ī–ĺ—Ä–ľ–ĺ—á—É—ā:
— –≠—ā–ĺ–ľ—É –≤–ł–Ĺ–į
—ā–ĺ…
–ī–į —Ā–Ķ…
–į –≥–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–Ķ,
—á—ā–ĺ —Ā–ľ—č—á–ļ–ł –ľ–į–Ľ–ĺ,
–≤ —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā–Ķ
–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ł–≤–į –ł –≤–ł–Ĺ–į. —
–Ē–Ķ—Ā–ļ–į—ā—Ć,
–∑–į–ľ–Ķ–Ĺ–ł—ā—Ć –Ī—č –≤–į–ľ
–Ī–ĺ–≥–Ķ–ľ—É
–ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ĺ–ľ,
–ļ–Ľ–į—Ā—Ā –≤–Ľ–ł—Ź–Ľ –Ĺ–į –≤–į—Ā,
–ł –Ī—č–Ľ–ĺ –Ī –Ĺ–Ķ –ī–ĺ –ī—Ä–į–ļ.
–Ě—É, –į –ļ–Ľ–į—Ā—Ā-—ā–ĺ
–∂–į–∂–ī—É
–∑–į–Ľ–ł–≤–į–Ķ—ā –ļ–≤–į—Ā–ĺ–ľ?
–ö–Ľ–į—Ā—Ā — –ĺ–Ĺ —ā–ĺ–∂–Ķ
–≤—č–Ņ–ł—ā—Ć –Ĺ–Ķ –ī—É—Ä–į–ļ.
–Ē–Ķ—Ā–ļ–į—ā—Ć,
–ļ –≤–į–ľ –Ņ—Ä–ł—Ā—ā–į–≤–ł—ā—Ć –Ī—č
–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł–∑ –Ĺ–į–Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ–≤ —
—Ā—ā–į–Ľ–ł –Ī
—Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ
–Ņ—Ä–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–ī–į—Ä—Ď–Ĺ–Ĺ–Ķ–Ļ.
–í—č –Ī—č
–≤ –ī–Ķ–Ĺ—Ć
–Ņ–ł—Ā–į–Ľ–ł
—Ā—ā—Ä–ĺ–ļ –Ņ–ĺ —Ā—ā–ĺ,
—É—ā–ĺ–ľ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ
–ł –ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ,
–ļ–į–ļ –Ē–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–ł–Ĺ.
–ź –Ņ–ĺ-–ľ–ĺ–Ķ–ľ—É,
–ĺ—Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ł—Ā—Ć
—ā–į–ļ–į—Ź –Ī—Ä–Ķ–ī—Ć,
–Ĺ–į —Ā–Ķ–Ī—Ź –Ī—č
—Ä–į–Ĺ—Ć—ą–Ķ –Ĺ–į–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ–ł —Ä—É–ļ–ł.
–õ—É—á—ą–Ķ —É–∂
–ĺ—ā –≤–ĺ–ī–ļ–ł —É–ľ–Ķ—Ä–Ķ—ā—Ć,
—á–Ķ–ľ –ĺ—ā —Ā–ļ—É–ļ–ł!
–Ě–Ķ –ĺ—ā–ļ—Ä–ĺ—é—ā
–Ĺ–į–ľ
–Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ –Ņ–ĺ—ā–Ķ—Ä–ł
–Ĺ–ł –Ņ–Ķ—ā–Ľ—Ź,
–Ĺ–ł –Ĺ–ĺ–∂–ł–ļ –Ņ–Ķ—Ä–ĺ—á–ł–Ĺ–Ĺ—č–Ļ.
–ú–ĺ–∂–Ķ—ā,
–ĺ–ļ–į–∂–ł—Ā—Ć
—á–Ķ—Ä–Ĺ–ł–Ľ–į –≤ «–ź–Ĺ–≥–Ľ–Ķ—ā–Ķ—Ä–Ķ»,
–≤–Ķ–Ĺ—č
—Ä–Ķ–∑–į—ā—Ć
–Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ī –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ—č.
–ü–ĺ–ī—Ä–į–∂–į—ā–Ķ–Ľ–ł –ĺ–Ī—Ä–į–ī–ĺ–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć:
–Ī–ł—Ā!
–Ě–į–ī —Ā–ĺ–Ī–ĺ—é
—á—É—ā—Ć –Ĺ–Ķ –≤–∑–≤–ĺ–ī
—Ä–į—Ā–Ņ—Ä–į–≤—É —É—á–ł–Ĺ–ł–Ľ.
–ü–ĺ—á–Ķ–ľ—É –∂–Ķ
—É–≤–Ķ–Ľ–ł—á–ł–≤–į—ā—Ć
—á–ł—Ā–Ľ–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ—É–Ī–ł–Ļ—Ā—ā–≤?
–õ—É—á—ą–Ķ
—É–≤–Ķ–Ľ–ł—á—Ć
–ł–∑–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —á–Ķ—Ä–Ĺ–ł–Ľ!
–Ě–į–≤—Ā–Ķ–≥–ī–į
—ā–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć
—Ź–∑—č–ļ
–≤ –∑—É–Ī–į—Ö –∑–į—ā–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ā—Ź.
–Ę—Ź–∂–Ķ–Ľ–ĺ
–ł –Ĺ–Ķ—É–ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ
—Ä–į–∑–≤–ĺ–ī–ł—ā—Ć –ľ–ł—Ā—ā–Ķ—Ä–ł–ł.
–£ –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–į,
—É —Ź–∑—č–ļ–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä—Ü–į,
—É–ľ–Ķ—Ä
–∑–≤–ĺ–Ĺ–ļ–ł–Ļ
–∑–į–Ī—É–Ľ–ī—č–≥–į –Ņ–ĺ–ī–ľ–į—Ā—ā–Ķ—Ä—Ć–Ķ.
–ė –Ĺ–Ķ—Ā—É—ā
—Ā—ā–ł—Ö–ĺ–≤ –∑–į—É–Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ļ–Ĺ—č–Ļ –Ľ–ĺ–ľ,
—Ā –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ľ—č—Ö
—Ā –Ņ–ĺ—Ö–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ
–Ĺ–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–į–≤—ą–ł –Ņ–ĺ—á—ā–ł.
–í —Ö–ĺ–Ľ–ľ
—ā—É–Ņ—č–Ķ —Ä–ł—Ą–ľ—č
–∑–į–≥–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć –ļ–ĺ–Ľ–ĺ–ľ —
—Ä–į–∑–≤–Ķ —ā–į–ļ
–Ņ–ĺ—ć—ā–į
–Ĺ–į–ī–ĺ –Ī—č –Ņ–ĺ—á—ā–ł—ā—Ć?
–í–į–ľ
–ł –Ņ–į–ľ—Ź—ā–Ĺ–ł–ļ –Ķ—Č–Ķ –Ĺ–Ķ —Ā–Ľ–ł—ā, —
–≥–ī–Ķ –ĺ–Ĺ,
–Ī—Ä–ĺ–Ĺ–∑—č –∑–≤–ĺ–Ĺ,
–ł–Ľ–ł –≥—Ä–į–Ĺ–ł—ā–į –≥—Ä–į–Ĺ—Ć? —
–į –ļ —Ä–Ķ—ą–Ķ—ā–ļ–į–ľ –Ņ–į–ľ—Ź—ā–ł
—É–∂–Ķ
–Ņ–ĺ–Ĺ–į–Ĺ–Ķ—Ā–Ľ–ł
–Ņ–ĺ—Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ļ
–ł –≤–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ļ –ī—Ä—Ź–Ĺ—Ć.
–í–į—ą–Ķ –ł–ľ—Ź
–≤ –Ņ–Ľ–į—ā–ĺ—á–ļ–ł —Ä–į—Ā—Ā–ĺ–Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–ĺ,
–≤–į—ą–Ķ —Ā–Ľ–ĺ–≤–ĺ
—Ā–Ľ—é–Ĺ—Ź–≤–ł—ā –°–ĺ–Ī–ł–Ĺ–ĺ–≤
–ł –≤—č–≤–ĺ–ī–ł—ā
–Ņ–ĺ–ī –Ī–Ķ—Ä–Ķ–∑–ļ–ĺ–Ļ –ī–ĺ—Ö–Ľ–ĺ–Ļ —
«–Ě–ł —Ā–Ľ–ĺ–≤–į,
–ĺ –ī—Ä—É-—É–≥ –ľ–ĺ–Ļ,
–Ĺ–ł –≤–∑–ī–ĺ-–ĺ-–ĺ-–ĺ-—Ö–į»
–≠—Ö,
–Ņ–ĺ–≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ć –Ī—č –ł–Ĺ–į—á–Ķ
—Ā —ć—ā–ł–ľ —Ā–į–ľ—č–ľ
—Ā –õ–Ķ–ĺ–Ĺ–ł–ī–ĺ–ľ –õ–ĺ—ć–Ĺ–≥—Ä–ł–Ĺ—č—á–Ķ–ľ!
–í—Ā—ā–į—ā—Ć –Ī—č –∑–ī–Ķ—Ā—Ć
–≥—Ä–Ķ–ľ—Ź—Č–ł–ľ —Ā–ļ–į–Ĺ–ī–į–Ľ–ł—Ā—ā–ĺ–ľ:
— –Ě–Ķ –Ņ–ĺ–∑–≤–ĺ–Ľ—é
–ľ—Ź–ľ–Ľ–ł—ā—Ć —Ā—ā–ł—Ö
–ł –ľ—Ź—ā—Ć! —
–ě–≥–Ľ—É—ą–ł—ā—Ć –Ī—č
–ł—Ö
—ā—Ä–Ķ—Ö–Ņ–į–Ľ—č–ľ —Ā–≤–ł—Ā—ā–ĺ–ľ
–≤ –Ī–į–Ī—É—ą–ļ—É
–ł –≤ –Ī–ĺ–≥–į –ī—É—ą—É –ľ–į—ā—Ć!
–ß—ā–ĺ–Ī—č —Ä–į–∑–Ĺ–Ķ—Ā–Ľ–į—Ā—Ć
–Ī–Ķ–∑–ī–į—Ä–Ĺ–Ķ–Ļ—ą–į—Ź –Ņ–ĺ–≥–į–Ĺ—Ć,
—Ä–į–∑–ī—É–≤–į—Ź
—ā–Ķ–ľ—Ć
–Ņ–ł–ī–∂–į—á–Ĺ—č—Ö –Ņ–į—Ä—É—Ā–ĺ–≤,
—á—ā–ĺ–Ī—č
–≤—Ä–į—Ā—Ā—č–Ņ–Ĺ—É—é
—Ä–į–∑–Ī–Ķ–∂–į–Ľ—Ā—Ź –ö–ĺ–≥–į–Ĺ,
–≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö
—É–≤–Ķ—á–į
–Ņ–ł–ļ–į–ľ–ł —É—Ā–ĺ–≤.
–Ē—Ä—Ź–Ĺ—Ć
–Ņ–ĺ–ļ–į —á—ā–ĺ
–ľ–į–Ľ–ĺ –Ņ–ĺ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–į.
–Ē–Ķ–Ľ–į –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —
—ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–Ņ–Ķ–≤–į—ā—Ć.
–Ě–į–ī–ĺ
–∂–ł–∑–Ĺ—Ć
—Ā–Ĺ–į—á–į–Ľ–į –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć,
–Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–į–≤ —
–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –≤–ĺ—Ā–Ņ–Ķ–≤–į—ā—Ć.
–≠—ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —
—ā—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ–≤–į—ā–ĺ –ī–Ľ—Ź –Ņ–Ķ—Ä–į,
–Ĺ–ĺ —Ā–ļ–į–∂–ł—ā–Ķ
–≤—č,
–ļ–į–Ľ–Ķ–ļ–ł –ł –ļ–į–Ľ–Ķ–ļ—ą–ł,
–≥–ī–Ķ,
–ļ–ĺ–≥–ī–į,
–ļ–į–ļ–ĺ–Ļ –≤–Ķ–Ľ–ł–ļ–ł–Ļ –≤—č–Ī–ł—Ä–į–Ľ
–Ņ—É—ā—Ć,
—á—ā–ĺ–Ī—č –Ņ—Ä–ĺ—ā–ĺ–Ņ—ā–į–Ĺ–Ĺ–Ķ–Ļ
–ł –Ľ–Ķ–≥—ą–Ķ?
–°–Ľ–ĺ–≤–ĺ —
–Ņ–ĺ–Ľ–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī–Ķ—Ü
—á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á—Ć–Ķ–Ļ —Ā–ł–Ľ—č.
–ú–į—Ä—ą!
–ß—ā–ĺ–Ī –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź
—Ā–∑–į–ī–ł
—Ź–ī—Ä–į–ľ–ł —Ä–≤–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć.
–ö —Ā—ā–į—Ä—č–ľ –ī–Ĺ—Ź–ľ
—á—ā–ĺ–Ī –≤–Ķ—ā—Ä–ĺ–ľ
–ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ–ĺ
—ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ
–Ņ—É—ā–į–Ĺ–ł—Ü—É –≤–ĺ–Ľ–ĺ—Ā.
–Ē–Ľ—Ź –≤–Ķ—Ā–Ķ–Ľ–ł—Ź
–Ņ–Ľ–į–Ĺ–Ķ—ā–į –Ĺ–į—ą–į
–ľ–į–Ľ–ĺ –ĺ–Ī–ĺ—Ä—É–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–į.
–Ě–į–ī–ĺ
–≤—č—Ä–≤–į—ā—Ć
—Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā—Ć
—É –≥—Ä—Ź–ī—É—Č–ł—Ö –ī–Ĺ–Ķ–Ļ.
–í —ć—ā–ĺ–Ļ –∂–ł–∑–Ĺ–ł
–Ņ–ĺ–ľ–Ķ—Ä–Ķ—ā—Ć
–Ĺ–Ķ —ā—Ä—É–ī–Ĺ–ĺ.
–°–ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć –∂–ł–∑–Ĺ—Ć
–∑–Ĺ–į—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —ā—Ä—É–ī–Ĺ–Ķ–Ļ.