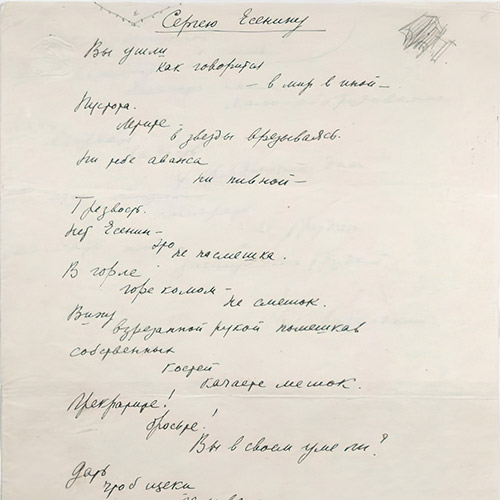
You have gone.
Another world’s your
home, they say.
Into space…
You fly now
t’wards your stars’ collision.
Sober!
There, there’s no advance, no
beer as pay.
No, Yesenin,
this is
not me joking.
Throat that
swells with grief is
joy-bereft.
So it’s
clear – you summoned strength to slit your
wrists and then
you hanged
your bone-bag’s angry heft.
“Stop it! Stop it!
Drop it!
Have you lost your senses?”
Is
flood to blanch
ruddy cheeks
with deathly chalk?!
You
contrived to
bend in such a fashion
as would lead
most others to baulk.
Why? Oh, why?
For what?”
Bewilderment has crumpled.
Critics’ gabble babbles:
“Taken by the wine,
yes…
indeed…
the thing is that
his bow was rumpled
by excessive,
bibulous, approach to wine.”
If, in
place of hooligan’s
Bohemia,
class had
ruled the way you thought,
it might have kept you straight.
Class, however,
doesn’t
slake its thirst with kvas, but
drinks its fill and
doesn’t hesitate.
If they’d
found a way to pin
a guard to oversee
you, you’d
have become adept,
churning out the stuff they wanted.
In a
day
you’d’ve scribbled
line on line,
stultifying, long
and breathless,
like Doronin.
Much the better then
to combat first
the drivel by
taking steps to
end its wretched onslaught’s batter –
better to
expire from vodka than
irksome clatter!
They’re not telling
us
the reason. Plaited
noose ended
it; pocket knife, perhaps. But
if there’d
been some ink,
the Angleterre’s fresh linen
mightn’t
have been
horribly thus wetted.
Imitators were delighted: “Bis!” they
cried.
Crowded round your
corpse a mob
that fought to get a sight.
Why encourage
rate of suicides
to go on going up?
Better
to augment
ink’s manufacture – day and night!
Evermore
may tongue
be fenced
behind their toothy gate.
It is wrong
and quite unfitting
how they propagate the lies.
For the people,
for the tongue-loosed waggers,
now has
died a
student-hooligan’s fine clamour.
And they bear
a funerary scrap of dull
verses
of the past
they haven’t bothered to adapt
and
they’ve hammered into
mound their silly rhymes
with a stake.
For surely
bards like this are great?
Still
there’s no monument for you there –
where knells
bronze’s bell,
where stands the granite’s floss?
But already memory’s fret
is laced
with tributes and
dedications
plastered with memorial’s dross.
“Oh, Yesenin,”
splutter they in handkerchiefs,
words of yours are
lisped by Sobinov, who
them belabours
under lifeless birch tree –
“Not a word,
O f-friend, no
n-n-not a whisper.”
Ach,
let’s bring another m-matter
up with Leonid
Lohengrinich, aka Sobinov!
I’ll get up,
for I’m a bloody scrapper:
“Silence! Stop that
chewing up
his verse!”
Stick it up to
them,
you old flute slapper
in the place
where sun’s ray doesn’t shine!
Deck them! Floor them all!
They’re untalented, they’re trash,
puffing up the
dark
with sail-like business suits,
let’s see
Kogan scatter
now in all directions,
maiming all
he meets
with whiskers’ wax-tipped shoots.
Trash
for now has
lessened just a little.
It’s a challenge
keeping up this thing.
Firstly,
life
requires renewing spittle –
when that’s finished
time will come to sing.
It’s an age when
life is difficult for scribes –
but let me know,
you,
behobbled and the sleazy,
where,
and when,
and what great path you ever trod
that
was from outset beaten
and easy.
At the
head the word is
leading human forces.
March!
Let time be
riven
by the cannonball.
May wind
now carry
only tangled
hair to
all the days of old.
For our planet is
not well equipped for
entertainment’s mad diversion.
Now we’ll
have to
wrest the
joy from coming days.
In the life we
have, to die
is easy.
Making it
is much more difficult.
Р’СӢ СғСҲли,
РәР°Рә РіРҫРІРҫСҖРёСӮСҒСҸ,
РІ РјРёСҖ РёРҪРҫР№.
РҹСғСҒСӮРҫСӮР°…
РӣРөСӮРёСӮРө,
РІ Р·РІРөР·РҙСӢ РІСҖРөР·СӢРІР°СҸСҒСҢ.
РқРё СӮРөРұРө аваРҪСҒР°,
РҪРё РҝРёРІРҪРҫР№.
РўСҖРөР·РІРҫСҒСӮСҢ.
РқРөСӮ, Р•СҒРөРҪРёРҪ,
СҚСӮРҫ
РҪРө РҪР°СҒРјРөСҲРәР°.
Р’ РіРҫСҖР»Рө
РіРҫСҖРө РәРҫРјРҫРј —
РҪРө СҒРјРөСҲРҫРә.
Р’РёР¶Сғ —
РІР·СҖРөР·Р°РҪРҪРҫР№ СҖСғРәРҫР№ РҝРҫРјРөСҲРәав,
СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪСӢС…
РәРҫСҒСӮРөР№
РәР°СҮР°РөСӮРө РјРөСҲРҫРә.
— РҹСҖРөРәСҖР°СӮРёСӮРө!
Р‘СҖРҫСҒСҢСӮРө!
Р’СӢ РІ СҒРІРҫРөРј СғРјРө ли?
ДаСӮСҢ,
СҮСӮРҫРұ СүРөРәРё
заливал
СҒРјРөСҖСӮРөР»СҢРҪСӢР№ РјРөР»?!
Р’СӢ Р¶
СӮР°РәРҫРө
загиРұР°СӮСҢ СғРјРөли,
СҮСӮРҫ РҙСҖСғРіРҫР№
РҪР° СҒРІРөСӮРө
РҪРө СғРјРөР».
РҹРҫСҮРөРјСғ?
Р—Р°СҮРөРј?
РқРөРҙРҫСғРјРөРҪСҢРө СҒРјСҸР»Рҫ.
РҡСҖРёСӮРёРәРё РұРҫСҖРјРҫСҮСғСӮ:
— РӯСӮРҫРјСғ РІРёРҪР°
СӮРҫ…
РҙР° СҒРө…
Р° главРҪРҫРө,
СҮСӮРҫ СҒРјСӢСҮРәРё малРҫ,
РІ СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮРө
РјРҪРҫРіРҫ РҝРёРІР° Рё РІРёРҪР°. —
Р”РөСҒРәР°СӮСҢ,
замРөРҪРёСӮСҢ РұСӢ вам
РұРҫРіРөРјСғ
РәлаСҒСҒРҫРј,
РәлаСҒСҒ влиСҸР» РҪР° РІР°СҒ,
Рё РұСӢР»Рҫ Рұ РҪРө РҙРҫ РҙСҖР°Рә.
РқСғ, Р° РәлаСҒСҒ-СӮРҫ
жажРҙСғ
заливаРөСӮ РәРІР°СҒРҫРј?
РҡлаСҒСҒ — РҫРҪ СӮРҫР¶Рө
РІСӢРҝРёСӮСҢ РҪРө РҙСғСҖР°Рә.
Р”РөСҒРәР°СӮСҢ,
Рә вам РҝСҖРёСҒСӮавиСӮСҢ РұСӢ
РәРҫРіРҫ РёР· РҪР°РҝРҫСҒСӮРҫРІ —
СҒСӮали Рұ
СҒРҫРҙРөСҖжаРҪРёРөРј
РҝСҖРөРјРҪРҫРіРҫ РҫРҙР°СҖС‘РҪРҪРөР№.
Р’СӢ РұСӢ
РІ РҙРөРҪСҢ
РҝРёСҒали
СҒСӮСҖРҫРә РҝРҫ СҒСӮРҫ,
СғСӮРҫРјРёСӮРөР»СҢРҪРҫ
Рё РҙлиРҪРҪРҫ,
РәР°Рә Р”РҫСҖРҫРҪРёРҪ.
Рҗ РҝРҫ-РјРҫРөРјСғ,
РҫСҒСғСүРөСҒСӮРІРёСҒСҢ
СӮР°РәР°СҸ РұСҖРөРҙСҢ,
РҪР° СҒРөРұСҸ РұСӢ
СҖР°РҪСҢСҲРө РҪалРҫжили СҖСғРәРё.
РӣСғСҮСҲРө СғР¶
РҫСӮ РІРҫРҙРәРё СғРјРөСҖРөСӮСҢ,
СҮРөРј РҫСӮ СҒРәСғРәРё!
РқРө РҫСӮРәСҖРҫСҺСӮ
РҪам
РҝСҖРёСҮРёРҪ РҝРҫСӮРөСҖРё
РҪРё РҝРөСӮР»СҸ,
РҪРё РҪРҫжиРә РҝРөСҖРҫСҮРёРҪРҪСӢР№.
РңРҫР¶РөСӮ,
РҫРәажиСҒСҢ
СҮРөСҖРҪила РІ «РҗРҪРіР»РөСӮРөСҖРө»,
РІРөРҪСӢ
СҖРөР·Р°СӮСҢ
РҪРө РұСӢР»Рҫ Рұ РҝСҖРёСҮРёРҪСӢ.
РҹРҫРҙСҖажаСӮРөли РҫРұСҖР°РҙРҫвалиСҒСҢ:
РұРёСҒ!
РқР°Рҙ СҒРҫРұРҫСҺ
СҮСғСӮСҢ РҪРө РІР·РІРҫРҙ
СҖР°СҒРҝСҖавСғ СғСҮРёРҪРёР».
РҹРҫСҮРөРјСғ Р¶Рө
СғРІРөлиСҮРёРІР°СӮСҢ
СҮРёСҒР»Рҫ СҒамРҫСғРұРёР№СҒСӮРІ?
РӣСғСҮСҲРө
СғРІРөлиСҮСҢ
РёР·РіРҫСӮРҫРІР»РөРҪРёРө СҮРөСҖРҪРёР»!
РқавСҒРөРіРҙР°
СӮРөРҝРөСҖСҢ
СҸР·СӢРә
РІ Р·СғРұах Р·Р°СӮРІРҫСҖРёСӮСҒСҸ.
РўСҸР¶РөР»Рҫ
Рё РҪРөСғРјРөСҒСӮРҪРҫ
СҖазвРҫРҙРёСӮСҢ РјРёСҒСӮРөСҖРёРё.
РЈ РҪР°СҖРҫРҙР°,
Сғ СҸР·СӢРәРҫСӮРІРҫСҖСҶР°,
СғРјРөСҖ
Р·РІРҫРҪРәРёР№
Р·Р°РұСғР»РҙСӢРіР° РҝРҫРҙРјР°СҒСӮРөСҖСҢРө.
Рҳ РҪРөСҒСғСӮ
СҒСӮРёС…РҫРІ Р·Р°СғРҝРҫРәРҫР№РҪСӢР№ Р»РҫРј,
СҒ РҝСҖРҫСҲР»СӢС…
СҒ РҝРҫС…РҫСҖРҫРҪ
РҪРө РҝРөСҖРөРҙРөлавСҲРё РҝРҫСҮСӮРё.
Р’ С…Рҫлм
СӮСғРҝСӢРө СҖифмСӢ
загРҫРҪСҸСӮСҢ РәРҫР»РҫРј —
СҖазвРө СӮР°Рә
РҝРҫСҚСӮР°
РҪР°РҙРҫ РұСӢ РҝРҫСҮСӮРёСӮСҢ?
Вам
Рё РҝамСҸСӮРҪРёРә РөСүРө РҪРө СҒлиСӮ, —
РіРҙРө РҫРҪ,
РұСҖРҫРҪР·СӢ Р·РІРҫРҪ,
или РіСҖР°РҪРёСӮР° РіСҖР°РҪСҢ? —
Р° Рә СҖРөСҲРөСӮРәам РҝамСҸСӮРё
СғР¶Рө
РҝРҫРҪР°РҪРөСҒли
РҝРҫСҒРІСҸСүРөРҪРёР№
Рё РІРҫСҒРҝРҫРјРёРҪР°РҪРёР№ РҙСҖСҸРҪСҢ.
Р’Р°СҲРө РёРјСҸ
РІ РҝлаСӮРҫСҮРәРё СҖР°СҒСҒРҫРҝР»РөРҪРҫ,
РІР°СҲРө СҒР»РҫРІРҫ
СҒР»СҺРҪСҸРІРёСӮ РЎРҫРұРёРҪРҫРІ
Рё РІСӢРІРҫРҙРёСӮ
РҝРҫРҙ РұРөСҖРөР·РәРҫР№ РҙРҫС…Р»РҫР№ —
«РқРё СҒР»РҫРІР°,
Рҫ РҙСҖСғ-СғРі РјРҫР№,
РҪРё РІР·РҙРҫ-Рҫ-Рҫ-Рҫ-С…Р°»
РӯС…,
РҝРҫРіРҫРІРҫСҖРёСӮСҢ РұСӢ РёРҪР°СҮРө
СҒ СҚСӮРёРј СҒамСӢРј
СҒ РӣРөРҫРҪРёРҙРҫРј РӣРҫСҚРҪРіСҖРёРҪСӢСҮРөРј!
Р’СҒСӮР°СӮСҢ РұСӢ Р·РҙРөСҒСҢ
РіСҖРөРјСҸСүРёРј СҒРәР°РҪРҙалиСҒСӮРҫРј:
— РқРө РҝРҫР·РІРҫР»СҺ
РјСҸмлиСӮСҢ СҒСӮРёС…
Рё РјСҸСӮСҢ! —
РһРіР»СғСҲРёСӮСҢ РұСӢ
РёС…
СӮСҖРөС…РҝалСӢРј СҒРІРёСҒСӮРҫРј
РІ РұР°РұСғСҲРәСғ
Рё РІ РұРҫРіР° РҙСғСҲСғ РјР°СӮСҢ!
Р§СӮРҫРұСӢ СҖазРҪРөСҒлаСҒСҢ
РұРөР·РҙР°СҖРҪРөР№СҲР°СҸ РҝРҫРіР°РҪСҢ,
СҖазРҙСғРІР°СҸ
СӮРөРјСҢ
РҝРёРҙжаСҮРҪСӢС… РҝР°СҖСғСҒРҫРІ,
СҮСӮРҫРұСӢ
РІСҖР°СҒСҒСӢРҝРҪСғСҺ
СҖазРұРөжалСҒСҸ РҡРҫРіР°РҪ,
РІСҒСӮСҖРөСҮРөРҪРҪСӢС…
СғРІРөСҮР°
РҝРёРәами СғСҒРҫРІ.
Р”СҖСҸРҪСҢ
РҝРҫРәР° СҮСӮРҫ
малРҫ РҝРҫСҖРөРҙРөла.
Р”Рөла РјРҪРҫРіРҫ —
СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝРҫСҒРҝРөРІР°СӮСҢ.
РқР°РҙРҫ
жизРҪСҢ
СҒРҪР°СҮала РҝРөСҖРөРҙРөлаСӮСҢ,
РҝРөСҖРөРҙРөлав —
РјРҫР¶РҪРҫ РІРҫСҒРҝРөРІР°СӮСҢ.
РӯСӮРҫ РІСҖРөРјСҸ —
СӮСҖСғРҙРҪРҫРІР°СӮРҫ РҙР»СҸ РҝРөСҖР°,
РҪРҫ СҒРәажиСӮРө
РІСӢ,
РәалРөРәРё Рё РәалРөРәСҲРё,
РіРҙРө,
РәРҫРіРҙР°,
РәР°РәРҫР№ РІРөлиРәРёР№ РІСӢРұРёСҖал
РҝСғСӮСҢ,
СҮСӮРҫРұСӢ РҝСҖРҫСӮРҫРҝСӮР°РҪРҪРөР№
Рё Р»РөРіСҲРө?
РЎР»РҫРІРҫ —
РҝРҫР»РәРҫРІРҫРҙРөСҶ
СҮРөР»РҫРІРөСҮСҢРөР№ СҒРёР»СӢ.
РңР°СҖСҲ!
Р§СӮРҫРұ РІСҖРөРјСҸ
СҒР·Р°РҙРё
СҸРҙСҖами СҖвалРҫСҒСҢ.
Рҡ СҒСӮР°СҖСӢРј РҙРҪСҸРј
СҮСӮРҫРұ РІРөСӮСҖРҫРј
РҫСӮРҪРҫСҒРёР»Рҫ
СӮРҫР»СҢРәРҫ
РҝСғСӮР°РҪРёСҶСғ РІРҫР»РҫСҒ.
ДлСҸ РІРөСҒРөлиСҸ
РҝлаРҪРөСӮР° РҪР°СҲР°
малРҫ РҫРұРҫСҖСғРҙРҫРІР°РҪР°.
РқР°РҙРҫ
РІСӢСҖРІР°СӮСҢ
СҖР°РҙРҫСҒСӮСҢ
Сғ РіСҖСҸРҙСғСүРёС… РҙРҪРөР№.
Р’ СҚСӮРҫР№ жизРҪРё
РҝРҫРјРөСҖРөСӮСҢ
РҪРө СӮСҖСғРҙРҪРҫ.
РЎРҙРөлаСӮСҢ жизРҪСҢ
Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ СӮСҖСғРҙРҪРөР№.